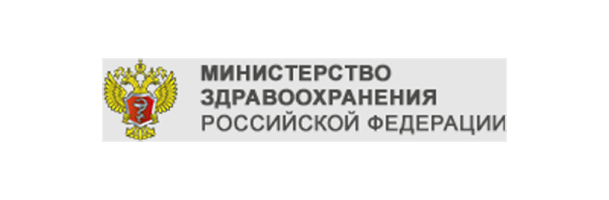05 марта 2026
Вы здесь
Фатум Афанасия Фета
“Шепот сердца, уст дыханье, / Трели соловья…” … “Я пришел к тебе с приветом / Рассказать, что солнце встало…” … “На заре ты ее не буди…” Со стихами Афанасия Афанасьевича Фета, со дня рождения которого недавно минуло 190 лет, мы знакомимся в самом раннем детстве. Его пейзажи, рисующие русскую природу, смену времен года, цветовые нюансы лесов и облаков и звуковые оттенки шелеста листьев и пения птиц остаются с нами навсегда – в той безмятежной памяти, которая не обременена еще черно-белым монотонным бытом реалий. В детстве кажется, что всю русскую литературу создали Пушкин и Фет – так часто их строки встречаются на страницах детских хрестоматий.
Легкий теплый ветер и тихая жизнь поэзии Фета создают обманчивое впечатление о столь же спокойной, гармоничной и созерцательной жизни автора стихов.
Между тем Фет отнюдь не был благостным и умильным фенологом, что становится очевидным при более глубоком знакомстве с его поэзией, нередко говорившей об «улыбке томительной скуки средь общей веселия жажды…», и биографией. Несколько мрачный и угрюмый мизантроп, превыше прочих философов почитавший недоброго А.Шопенгауэра, труды коего Фет переводил, поэт не был похож на свои стихи, которые впоследствии оказались в школьных хрестоматиях. Пессимизм Шопенгауэра узнается в таких строках Фета, как:
…Ты только отрицанье
Всего, что чувствовать,
что мне узнать дано
или
Покуда я дышу – ты мысль моя, не боле,
Игрушка шаткая тоскующей мечты.
«В нем было что-то жесткое и, как ни странно это сказать, было мало поэтического», – вспоминал позднее С.Л.Толстой, сын Л.Н.Толстого, подчеркивая то, что замечали практически все современники Фета, знакомые с обликом и образом мышления поэта. Да и сам поэт вполне недвусмысленно говорил о своем пессимизме:
Я люблю многое,
близкое сердцу,
Только редко люблю я…
Сын немецкой еврейки Шарлотты-Елизаветы Фётт, усыновленный мценским помещиком, столбовым дворянином Афанасием Неофитовичем Шеншиным, он, до 14 лет считавший себя русским дворянином, вдруг был «поставлен в известность» о том, что ему следует отныне именоваться «гессен-дармштадтским подданным А.Фётом». Причем эта новая немецкая фамилия, права на ношение которой с огромным трудом добились родственники будущего поэта, спасала его от позорного клейма «незаконнорожденного».
В дальнейшем Фету суждено было в течение долгого времени носить клеймо слухов о своем происхождении незаконнорожденного полуеврея-полубоярина.
Появилась сплетня-версия о том, что Фет был сыном безвестного еврея-корчмаря, продавшего свою жену А.Н.Шеншину. (Об этом как о вполне достоверном факте пишут, например, художник И.Э.Грабарь и писатель И.Г.Эренбург).
И эта тяжелая драма стала далеко не единственным глубоким потрясением в жизни поэта. В молодости Фет был влюблен в бесприданницу Марию Лазич, дочь бедного херсонского помещика, которая трагически погибла, сгорев от пламени свечи, подпалившей ее платье (об этом есть рассказ И.С.Тургенева).
Но, помимо этого, над жизнью и разумом поэта постоянно висел дамоклов меч грядущего безумия. Его мать сошла с ума. Мемуаристы говорят об “истерических припадках” и “меланхолии” Шарлотты Фётт (Елизаветы Петровны Шеншиной), о том, что она была вынуждена жить то в Орле, чтобы “находиться под ежедневным надзором своего доктора Вас.Ив. Лоренца”, то в особом флигеле в имении, где всегда царила ночь и куда даже дети допускались только на несколько минут. Такая же участь стала судьбой обоих братьев и обеих сестер поэта, а также его племянника. И сам Фет всю жизнь ждал: когда же это произойдет с ним, всю жизнь он просыпался с этой мыслью. И.С.Тургенев писал о нем в письме Я.П.Полонскому: “…он теперь иногда такую несет чушь, что поневоле вспоминаешь о двух сумасшедших братьях и сумасшедшей сестре этого некогда столь милого поэта. У него тоже мозг с пятнышком”. И хотя безумие (в чистом его виде) и миновало Фета, депрессивный радикал его психики сформировался вполне отчетливо. Высказывания о самоубийстве, недвусмысленные реплики о надоевшей жизни и желанной смерти фиксируют многие мемуаристы. “Я не видал человека, которого бы так душила тоска, за которого бы я более боялся самоубийства… Я боялся за него, я проводил часто ночи у его постели, стараясь чем бы то ни было рассеять… страшное хаотическое брожение стихий его души”, – писал позднее А.А.Григорьев.
В стихах и прозе Фет постоянно называл себя “безумцем”, словно предвосхищая неминуемое:
“…Как богат я в безумных
стихах…”;
“…Моего тот безумства желал, кто смежал
Этой розы завои, и блестки, и росы…”;
“И, издали молясь,
поэт-безу мец пусть
Прекрасный образ ваш
набросит на бумагу”;
“…Лезет в голову больную
Всё такая чертовщина!”
“Кто развернет мои стихи, увидит человека с помутившимися глазами, с безумными словами и пеной на устах, бегущего по камням и терновникам в изорванном одеянии”.
Фет постоянно помнил о своей наследственности, не разрешая себе ни на минуту забыть о том, что его будущее – в желтом доме, рядом с сестрами и братьями.
Депрессивный радикал его психики в конце концов сформировался в выраженную и неизбывную меланхолию. В течение последних месяцев жизни Фет настолько не хотел жить, что родственники и близкие прятали от него орудия, которые могли бы стать средством самоубийства. И всё же смерть поэта фактически стала суицидом: страдавший болезнью сердца, Фет в последний день своей жизни продиктовал своему секретарю записку: “Не понимаю сознательного приумножения неизбежных страданий. Добровольно иду к неизбежному”. (Задолго до этого он уже написал в стихотворении “Смерти” почти то же самое:
“…С улыбкой, полной сладострастья,
В тебе последнего участья
Искать страдалец обречен…”)
После чего вдруг схватил со стола стилет, служивший ему ножом для разрезания бумаг, а когда секретарь, вырвал его, поранившись, поэт вскочил из кресел и бросился в столовую за ножом, рассчитывая зарезаться, но резкое движение и внезапная физическая нагрузка стали фатальными для его сердца: он умер от инфаркта.
Вся жизнь поэта была жизнью человека, приговоренного к безумию, и только смерть стала для него освобождением от роковой предопределенности, казавшейся неизбежной.
Возникает вопрос: как случилось, что практически все ближайшие родственники поэта потеряли рассудок, но сам он всё же остался по эту сторону разума? И только один ответ кажется наиболее убедительным: поэзия Фета влияла на его мышление, его психику, приводя их в гармоничное равновесие. Его талант позволял увидеть в окружающем мире не только сон, как следовало по доктрине Шопенгауэра, мрачно рассматривавшего “смерть – как пробуждение” от этого сна. И когда Фет после дня, проведенного за чтением Шопенгауэра, поднимал голову и смотрел в окно, он вдруг, наперекор только что прочитанному, не мог не увидеть, не почувствовать:
“Сад весь в цвету,
Вечер в огне,
Так освежительно
радостно мне!”
Игорь ЯКУШЕВ,
доцент Северного государственного
медицинского университета.
Архангельск.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Издательский отдел: +7 (495) 608-85-44 Реклама: +7 (495) 608-85-44,
E-mail: mg-podpiska@mail.ru Е-mail rekmedic@mgzt.ru
Отдел информации Справки: 8 (495) 608-86-95
E-mail: inform@mgzt.ru E-mail: mggazeta@mgzt.ru