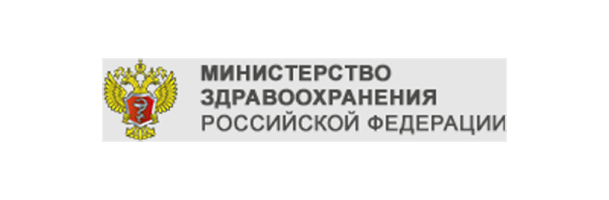03 марта 2026
Вы здесь
Роман с романтизмом
Эстетика эпохи романтизма -наступившего в ХIX в. нового стиля, - при котором эмоции и чувства персонажей произведений искусства (и очень часто - их авторов) сперва, с непривычки, казались несколько гротескными, слегка утрированными, педалированными, были немного «чересчур», постепенно овладела временем. Отныне обыденные печаль или хандра казались мировой скорбью; обыкновенные недовольство или возмущение надевали маску бурного гнева; незамысловатое бытовое опасение выглядело священным ужасом и пр. В стилистике романтизма было слишком много восклицательных знаков и междометий типа: «Увы!» или «О!»
Пациенты психиатра или дети своего времени?
Слегка распоясавшиеся человеческие эмоции стали относительной нормой жизни, хотя и временной, в силу чего многие из мастеров той эпохи, формально находясь вне пределов клиники психиатрического содержания, с позиций сегодняшнего дня могут показаться несомненными пациентами психиатрической больницы, разминувшимися с врачом по тем или иным случайным причинам. Однако необходимо помнить и о том, что романтическая стилистика в духе: «Умри, несчастная, крови жажду!», или мрачных сентенций шиллеровского разбойника Карла Моора: «О, люди - порожденья крокодилов!», или меланхолических характеров типа несколько припозднившихся последователей юного Вертера, о котором Гёте рассказал еще в 1776 г., была не только социально и культурально приемлемой, но, более того, - она была популярной и модной. Этим персонажам подражали, они становились героями своего времени. И стоит ли, например, оценивать суицидальные мысли, приходившие к Наполеону Бонапарту, более десяти раз прочитавшему книгу Гёте «Страдания юного Вертера», как признак витальной депрессии самого будущего императора? Кажется, что нет. «В кругу мыслящих кто не думал о самоубийстве», - написал японский писатель Ясунари Кавабата в романе «Последний взор» (1927).
С такой точки зрения лапидарные упоминания о некоторых маэстро того времени в контексте их психиатрической диагностики кажутся недостаточным основанием для патографического анализа обстоятельств жизни некоторых творцов той эпохи. Речь идет, например, о «меланхолии» Ф.Листа, оказавшегося в ситуации, сходной с Вертеровской: депрессия 19-летнего музыканта была обусловлена отказом, который он получил при сватовстве, или о депрессиях Ф.Мендельсона-Бартольди, возникавших на фоне мучительных головных болей, объяснявшихся аневризмой крупного сосуда головного мозга, или об «ипохондрии» Ф.Шуберта, который имел в жизни немало реальных поводов для совсем неромантической печали. Его небогатый, почти полуголодный быт, неумеренное пьянство и скромные заработки, а также серьезное заболевание (сифилис) часто давали композитору резон к грустной задумчивости. И даже названия некоторых ранних шубертовских произведений - «Отцеубийца», «Песня гробокопателя», «Похоронная фантазия» - были написаны 14-летним композитором в 1811 г., то есть на самом пике расцвета романтического стиля, столь интересовавшегося вопросами любви и смерти.
Рамки и границы психологической (и психиатрической) приемлемости меняются почти так же быстро и интенсивно, как и мода на одежду. И если экспрессивная стилистика романтизма сегодня иногда кажется предметом интереса как минимум пограничной психиатрии, то, прежде чем выносить диагностические вердикты, необходимо попытаться оценить не только психологический портрет субъекта, но и психологический климат его эпохи. В то же время психические особенности некоторых из композиторов и музыкантов этого времени дают известные основания для того, чтобы углубиться в их биографии, используя психиатрический аналитический аппарат.
Странствие Паганини
Вокруг имени и судьбы итальянского виртуоза-скрипача Никколо Паганини существует столько легенд, что за ними становится почти незаметной настоящая биография маэстро. Тяжелое и безотрадное детство Н.Паганини: суровый отец превратил занятия музыкой в ежедневную многочасовую пытку для ребенка... Более поздние пересуды вокруг его «проданной дьяволу души» - за неповторимое искусство скрипичной игры... Постоянные скитания музыканта по всей Европе, словно он был кем-то обречен на непрерывные странствия и наказан за свой феноменальный дар пыткой вечного неуюта... Умение исполнить сложный опус на одной струне и способность играть на своем инструменте так, что слышался скрипичный ансамбль... Всё это соткало апокриф, где правда и вымысел сплетаются в прочное полотно, в котором невозможно отделить друг от друга ложь, факт и досужие выдумки.
Странные «припадки», наблюдавшиеся у скрипача с 4-летнего возраста и перешедшие в регулярно повторявшиеся «конвульсии» к 7 годам, впоследствии дали основания некоторым исследователям творчества маэстро говорить о его эпилепсии. В то же время раздражительность, мрачность и капризность, сохранявшиеся у Паганини до самой смерти, его нервозность, возбудимость, взаимосвязь «припадков» с эмоциональными переживаниями, вкупе с удивительной анатомией скрипача, позволяют не то чтобы исключить какое-то заболевание, но несколько уточнить диагностику. «Его пальцы были тонкие и гибкие (на левой руке длиннее, чем на правой), тело будто из резины, легко приспосабливалось к нужному положению», - писал современник. Никколо Паганини, по-видимому, страдал болезнью Марфана. Эта патология помимо своеобразных анатомических особенностей характеризуется повышенной продукцией гормона адреналина, стимулирующего психическую и физическую активность, что может обусловливать у такого пациента высокую подвижность и нестабильность нервно-психических процессов. И это обстоятельство объясняет повышенную чувствительность музыканта: известно, что звуки музыки действовали на Паганини крайне своеобразно и сильно: «...колокола Генуи вводили его будто в летаргию - он цепенел, орган заставлял рыдать, старинная песня эти слезы сушила вмиг...» Виртуоз исполнения, он был и виртуозом слуха: весь мир Никколо Паганини структурировал с помощью бемолей и слышал предметы и людей в разных тональностях. Сочетание повышенной чувствительности - с усиленной болезнью Марфана выработкой адреналина - вполне последовательно сформировали специфический личностный конгломерат из нетерпеливой раздражительности и мрачности (никто был не в состоянии адекватно услышать и понять его так, как слышал себя он сам), чувствительности и тонкости восприятия, настолько субтильных, что музыка могла вызывать припадки, сходные с каталепсией или эпилепсией. Мастерство Паганини, позволяющее исполнять музыку с неповторимыми скоростью и чувством, было отражением его собственной, слишком быстрой жизни, постоянно подгоняемой кнутом непрерывных выбросов адреналина. Возможно, именно этим объясняются и постоянные переезды скрипача из города в город - до самой смерти. Маэстро просто не мог долго находиться в положении, которое считал пассивным. Иллюзия активности, достигаемая за счет непрерывных перемещений и странствий, видимо, несколько нейтрализовы-вала адреналиновую плетку болезни Марфана, сменившую плеть строгого отца музыканта.
Страдания Шопена
Фридерик Шопен в детстве тоже был крайне чувствительным ребенком. Он плохо спал, часто видел тревожные сновидения, которые порой путал с явью. Сильные эмоции, даже радостные, трогали его до слез, до истерики. И с возрастом эти особенности его характера изменились незначительно. Он навсегда остался таким же сентиментальным и сенситивным человеком, плохо подготовленным к реалиям жизни. Оранжерея родительского дома стала для него не лучшим способом адаптации к самостоятельности и формирования мало-мальской стойкости характера. Любое событие, несшее в себе отрицательный эмоциональный заряд, становилось уже и для взрослого Шопена почти вселенской катастрофой, неизменно сопровождаясь депрессией той или иной степени выраженности, которой иногда сопутствовали и слуховые обманы восприятия, например он слышал звон колоколов на своих грядущих похоронах; и содержание этой галлюцинации явственно обозначает превалировавший в тот момент депрессивный радикал его эмоций. Наследственность маэстро не была абсолютно благополучной: у его отца тоже отмечались приступы меланхолической депрессии.
Впервые депрессивная настроенность у Шопена была зафиксирована в 1830 г., во время его пребывания в Вене. Это было время начала польского восстания в Варшаве. Тогда эмоции композитора сопровождались даже суицидальными мыслями и ассоциациями, что для поляка-католика было критерием выраженности и тяжести депрессивной симптоматики. Шопен уже даже составил завещание. При этом композитор боялся быть похороненным заживо, оговорив непремен-ность собственного посмертного вскрытия, что в первой трети ХIX в. совсем не являлось обиходом европейской медицины. Зимой 1838-1939 гг., в период жизни на Майорке, композитор снова впал в глубокую депрессию, сопровождавшуюся апатией, бессонницей, меланхолической подавленностью с чувством безысходной покорности судьбе. Разумеется, заболевание композитора, проявившееся к тому времени (туберкулез), давало реальные основания для депрессии - эта патология тогда считалась неизлечимой. С этого времени депрессивные эпизоды повторялись у Шопена регулярно, идя параллельным курсом с течением периодически обострявшегося туберкулеза. Те черты личности, которые сформировались у композитора в раннем детстве, вновь актуализировались: «У него была обостренная чувствительность: загнувшийся лепесток розы, тень от мухи - всё наносило ему глубокую рану. Всё ему было антипатично, всё раздражало...» Тем удивительнее то обстоятельство, что творчество в его жизни в этот период времени оказалось максимально плодотворным.
Печальные ламентации композитора каким-то образом превращались в прекрасную музыку, которой не становилось меньше в связи с его переживаниями. Длительная связь с писательницей Жорж Санд закончилась разрывом их отношений в 1847 г., и последнее обстоятельство окончательно подорвало здоровье Шопена, как в отношении течения туберкулеза, так и в плане усиления эмоционального депрессивного радикала. Тем не менее композитор продолжает гастролировать, сочинять, и его творчество не становится более скудным, а жизнь менее насыщенной: несколько чудесных вальсов, ноктюрнов и полонезов, баркарола, соната для фортепиано и виолончели, длительные гастроли по Англии и Шотландии, выступления на вечерах в домах лондонской знати, знакомства с Ч.Диккенсом и Т.Карлейлем, позирование многочисленным художникам, путешествия по шотландским замкам... Словно близость смерти из-за неизлечимой болезни и трагический (особенно для столь ранимого характера) разрыв с близким человеком оказывались для Шопена творческим стимулом, неудержимо гнавшим композитора вперед, к линии недосягаемого горизонта.
Катализатор творчества
Мастера-романтики не стеснялись сильных эмоций, их персонажам не нужны были полутона и нюансы психики: их герои жили в мире слишком сильных страстей, междометий и восклицательных знаков. (А может быть, недосягаемость тонкого анализа человеческой психики для искусства того времени еще не позволяла внедряться в подлинные глубины душевных переживаний, постигать тонкие оттенки движений души, вынуждая мастеров романтизма отражать лишь те внешние и яркие стороны действительности и психической деятельности, которые были на виду, то есть просто-напросто бросались в глаза?) Инфернальная мрачность байроновского Чайльд Гарольда существенно повлияла на несколько десятилетий европейской культуры, но его живописный плащ не был хрестоматийной смирительной рубашкой психиатрического стационара.
А может быть, дело в том, что яркость и экзотичность сюжетов, сила выражаемых страстей, пафос уместной по содержанию сюжета декламации оказывались для романтиков тем катализатором, который стимулировал их собственное творчество? И только яркая палитра чувств и событий могла вызывать к жизни их яркие произведения? Обыденная повседневность, серые будни не были для представителей этого стиля поводом к созиданию. Подобно пушкинскому Алеко романтики не чувствовали себя комфортно даже в тех случаях, когда все у них складывалось хорошо:
Теперь он вольный житель мира,
И солнце весело над ним
Полуденной красою блещет;
Что ж сердце юноши трепещет?
Какой заботой он томим?
Может быть, именно потому так тяготили этих мастеров будни и быт, что заставляли уходить и отвлекаться от желанных им романтических категорий, поневоле мысля скучными реалиями повседневности? Может быть, как раз оттого столь часто нестандартно, неканонично складывалась и семейная жизнь мастеров романтизма? Ведь, по сути дела, их единственным настоящим увлечением был роман со стилем, а то, что оказывалось за его пределами, становилось помехой. И в стилистике романтизма революция, восстание, роковая страсть, смертельная болезнь, кровь и любовь (желательно, несчастная), на худой конец, постоянные переезды с места на место -в поисках стимулирующих творчество впечатлений и эмоций - становились содержанием сюжета и формой выражения чувств почти каждого мастера, работавшего на этом направлении в искусстве.
У каждой эпохи - свои манеры; и манеры эти вполне могут показаться странностями, особенно если разглядывать их не изнутри, а извне. Уже Владимир Ленский, подражавший немецким романтикам, казался живым анахронизмом одним своим современникам, в то время как другие еще ничего особенного в его манерах и речах не замечали. «Кудри черные до плеч...», столь характерные для эпохи романтизма (можно вспомнить в этом контексте и лохматую голову Бетховена, и растрепанную прическу Гофмана, и длинные локоны Листа и Шопена, и спутанную гриву Паганини...), с точки зрения эстетики иной формации, могут считаться и экстравагантными, и модными, и устаревшими, и смешными, и наконец, безумными, что, впрочем, не всегда позволяет относить эти и некоторые другие стилистические особенности эпохи к диагностическим критериям.
Игорь ЯКУШЕВ,
доцент Северного государственного медицинского университета.
Архангельск.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Издательский отдел: +7 (495) 608-85-44 Реклама: +7 (495) 608-85-44,
E-mail: mg-podpiska@mail.ru Е-mail rekmedic@mgzt.ru
Отдел информации Справки: 8 (495) 608-86-95
E-mail: inform@mgzt.ru E-mail: mggazeta@mgzt.ru