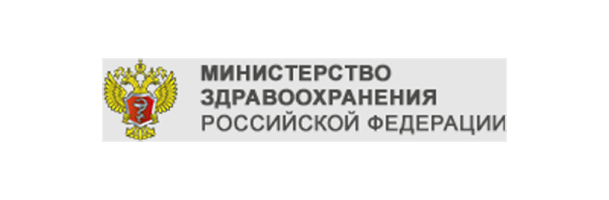03 марта 2026
Вы здесь
Чужой среди своих
Поэт Юлиан Тувим называл себя евреем-поляком
Юлиан Тувим родился в 1894 году в польской Лодзи. Его детство пришлось на расцвет мануфактурного бума, позже он стал свидетелем индустриального упадка Лодзи. Родители будущего поэта, будучи евреями, стремились ассимилироваться в польскую среду, отвергнув ветхозаветные скрижали, исповедуя приоритеты польского языка и секулярного обихода. Психологический климат небогатой семьи был напряженным: мать поэта, Адель, страдала хроническими депрессиями, в связи с чем лечилась у психиатров. Ее душевное состояние не отличалось стабильностью, что стало причиной привычной нервозного климата в доме. Непредсказуемость реакций матери генерировала в семье тревожное ожидание неприятных последствий: никогда нельзя было знать заранее – в каком состоянии духа Адель Тувим окажется к вечеру, даже если утро сулило сугубо безоблачный закат дня. У нее был трудный характер, но именно мать воспитала мальчика в любви к литературе и польскому языку.
Истоки агорафобии
На фотографиях поэт чаще всего снят в правый профиль: на его левой щеке было большое родимое пятно. Косметический дефект стал причиной издевок и остракизма со стороны сверстников. Мать считала пятно «проклятием судьбы», мечтала об операции. Сестра Тувима вспоминала о том, как мать «договаривалась со знахаркой, которая должна была исцелить Юлека». Адель с подозрением относилась даже к нейтральным репликам прохожих, усматривая в них злонамеренные инсинуации по поводу внешности ребенка. Не желая, чтобы мать выслушивала насмешки, воспринимаемые ею болезненно, мальчик отказался от совместных прогулок. Большую часть времени он проводил дома, где его психика была ограждена от наждака социальных трений. Дом тоже не был местом покоя, но события, происходившие там, были, по крайней мере, более предсказуемыми. Детская привычка сидеть в четырех стенах, относясь к внешнему миру, как к месту, полному потенциальных неприятностей и неведомых опасностей, безусловно, стала одной из причин психиатрической проблемы, настигшей Тувима во взрослом возрасте. У него сформировалась агорафобия.
Клиника этого расстройства неспецифична: постоянное тревожное ожидание; утомительный аутомониторинг ипохондрического свойства; стремление уклониться от ситуаций, могущих спровоцировать панику… Приступ начинается остро, длится около получаса, сопровождается тахикардией, потливостью, чувством «нехватки воздуха», страхом смерти. Диагноз определяется обстоятельствами возникновения симптомов. Термин «агорафобия» переводится с древнегреческого, как «боязнь рынка». Агора – рыночная площадь – не только архитектурное пространство, но и публика, внутри него обретающаяся; в связи с чем, тревога пациента обусловлена не только его нахождением вне дома, но и пребыванием в толпе (общественные места, транспорт, открытые пространства…) Страх перед «позором», если приступ паники разовьется на людях, усиливает симптоматику, ограничивая возможности человека; который может годами не покидать дом: работа и контакты возможны для него лишь в «безопасной» зоне. Тревога возникает и в тех случаях, когда агорафоб считает окружающую среду неподконтрольной себе. «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку», - как сформулировал позже другой великий поэт-еврей…
Косметический дефект стал причиной школьных проблем мальчика: в шестом классе ему пришлось посидеть дважды. Тем не менее, окончив русскую гимназию Лодзи, Тувим поступил в Варшавский университет для изучения юриспруденции и философии (1916–1918).
Поэт-экспериментатор
В литературе он дебютировал в 1913 г. Раннее творчество Тувима часто носило характер филологической игры. Поэт охотно экспериментировал со словами и был большим охотником до вербальной эквилибристики.
Слова, как мячики живые,
Кидаю по орбитам плоским
И вмиг на стержни звуковые
Ловлю одним движеньем броским.
С юных лет он коллекционировал лексемы, которые были созвучны друг другу, но имели различные значения в разных языках. Слова часто становились не менее (более!) важными действующими лицами стихов Тувима, нежели их персонажи. Новые непривычные звучания освежали его строки, придавая им неожиданные смысловые повороты.
Видимо, отсюда и интерес Тувима к эсперанто, на котором он тоже охотно писал стихи, и к переводческой деятельности, и к словотворчеству. Некоторые поэтические экзерсисы польского мастера литературоведы сопоставляют с заумными текстами Велимира Хлебникова (например, «Зелень», где звуки Тувима выходят за пределы семантики слов). Превосходно получались у него детские стихи, становящиеся и книжной страницей, и вербальной игрой:
Кто не слышал об артисте
Тралиславе Трулялинском!
Полемические эскапады поэта часто помещали его в центр скандалов. Пацифистское стихотворение «Простому человеку» стало причиной судебного процесса против Тувима. В стихотворении «Бал в опере» (опубликовано лишь в 1946 г.) он проехался по спесивой национальной элите, издевательски отозвавшись о бессмыслице ее идеологии и лицемерии властей, нажив серьезных врагов. Особым поводом для литературных скандалов вокруг Тувима были его стихи о евреях, не стремившихся вливаться в культуру страны своего обитания.
Черные, хитрые, бородатые,
С безумными глазами,
В которых — вечный страх,
В которых наследие веков.
Поэт призывал к культурной ассимиляции еврейского населения Польши, порой весьма нелестно отзываясь о некоторых обычаях и манерах своего народа. (Знаменательно, что одной из главных претензий Тувима к еврейской диаспоре было «уродование польского языка»). Разумеется, он попал в разряд предателей. Когда на одном из поэтических вечеров поэт прочитал стихотворение «Биржевики», полиции пришлось защищать его от возмущенных соплеменников. Едкая ирония Тувима прожигала насквозь. Логика его поэтического языка была острой и разящей. Но социальные трения, возникающие в связи с его текстами, усиливались, и проблемы Тувима усугублялись. Для евреев он перестал быть своим. Но и для очень многих поляков он остался лишь еще одним еврейским поэтом, зачем-то пишущим по-польски, забавным парадоксом-оксюмороном - «еврей-антисемит», хотя сам Тувим называл себя «еврей-поляк».
М.И. Цветаева заметила: «В сем христианнейшем из миров Поэты – жиды!» Разумеется, она имела в виду инакость любого поэта, его отличие от остальных людей, уникальное устройство его психического аппарата, мыслящего особым образом. Тувим, напротив, стремился к культурной интеграции, но на своем парадоксальном пути сделал немыслимый пируэт, в результате которого оказался «жидом» даже для евреев.
Трагедия польских евреев
Тем временем мануфактурный гешефт Лодзи подошел к закату. Во время Первой мировой войны многие фабрики города были разрушены. Для оставшихся - после Октябрьской революции был потерян русский рынок. Еврейские фабрики не имели финансовой поддержки от правительства, многие были закрыты. Сильный удар по промышленности Лодзи нанес мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 г. Выросла безработица. Антисемитские настроения среди рабочих усиливались: они настаивали на предоставлении им работы за счет увольнения евреев - даже с предприятий, принадлежавших еврейским фабрикантам. Власти оказывали этим требованиям административную поддержку. Спекулировать на антисемитской теме было легко: тем, кто победнее, говорилось о «еврейских банкирах, ростовщиках и фабрикантах»; тому, кто побогаче годился вариант о «евреях-коммунистах»; для совсем уж темных сходил старый сказ о «маце, замешанной на крови христианских младенцев». Антисемитские выступления случались ежегодно: апрель 1933, май 1934, сентябрь 1935 гг. На городских выборах 1934 г. политики, выступавшие под лозунгом «Очистить город от евреев!», получили подавляющее большинство голосов. В 1935 г. умер отец Тувима, не дожив до совсем уж мрачных времен. В 1938 г., еще до начала войны, богатые евреи были арестованы, перед еврейскими магазинами была поставлена охрана, дабы не впускать в них покупателей-неевреев. История мануфактурной Лодзи постепенно завершалась.
В 1930-е гг. Тувим резко критиковал фашизм, что, наряду с еврейским происхождением поэта, стало причиной его эмиграции. В 1939 г. ему удалось бежать в Румынию, затем – через Францию, Португалию и Бразилию - в США.
Во время немецкой оккупации Лодзь была переименована в Лицманштадт. В Балутах было сформировано гетто (второе по величине в Польше), которое Геббельс называл «образцовым». Плотность населения здесь составляла более 40000 человек на квадратный километр. К моменту деоккупации Лодзи Советской Армией (январь 1945 г.), из 204000 евреев гетто осталось 880.
Адель Тувим во время войны лечилась в психиатрической больнице в Отвоцке (близ Варшавы) и была убита гитлеровцами в 1942 г. (Возможно, что она покончила жизнь самоубийством). Вернувшись из эмиграции, в 1946 г., Тувим перенес ее останки на лодзинское кладбище.
На еврейском кладбище в Лодзи,
Под сенью березы унылой
Мамы моей еврейки.
Польская могила.
Прах моей матери милой,
Еврейской, польской,
На берег фабричной Лодзи
Я перенес из Отвоцка.
Трагедия геноцида еврейского народа потрясла Тувима. В 1944 г., находясь в эмиграции, он опубликовал манифест «Мы, польские евреи». Поэт писал: «Обильными, глубокими ручьями струится кровь евреев (не «еврейская кровь»). Бурые и потемневшие, сливаются они в бурную, пенистую реку… и в этом новом Иордане я приемлю крещение – кровное, горячее, мученическое братство мое с евреями». Тувим безусловно идентифицировал себя со своим народом - на основании не той крови, «что течет в жилах», а той, «что выкачивают из жил», но он не изменял и своему былому кредо: «Я поляк, ибо живет во мне тайное суеверное желание, неподвластное ни разуму, ни логике, чтобы мертвое мое тело приняла и вобрала польская земля». Он попытался рассказать евреям, почему чувствует себя поляком, а полякам — почему ощущает себя евреем. В результате для поляков он все равно остался евреем, а для евреев – не перестал быть ренегатом.
После войны в Польшу вернулось около 500 тыс. евреев. И тут оказалось, что их квартиры и дома уже принадлежали новым хозяевам. Потом выяснилось, что у некоторых возвратившихся нашлись принадлежавшие им ранее заводы, фабрики и иной гешефт. Нежелание возвращать евреям имущество, разграбленное польским населением, стало важным обстоятельством для возобновления погромов. «Обоснованием» для них часто становились слухи об убийстве польского ребенка. Евреи опасались перемещаться по Польше: их сталкивали с поездов. Английский историк И. Гутман писал, что погромы не являлись делом рук отдельных бандитов, а были тщательно подготовлены. На бытовой антисемитизм в этих условиях уже никто не обращал внимания. Но, все же, - как выходить на улицу? Как пересечь площадь?
Рухнувшие надежды
Вначале поэт был исполнен счастья, связанного с концом оккупации Польши и надежд на будущее. Эренбург вспоминал: «Тувим днем, вечером, ночью водил меня по развалинам Варшавы. «Нет, ты посмотри - какая красота!..» Город был страшен. Прекрасны развалины древних городов: время - гениальный зодчий, оно умеет и запустению придать гармонию; а города, только что разрушенные войной, терзают и глаз, и сердце - груды щебня, развороченные дома с клочьями обоев, с повисшей в небе винтовой лестницей, люди, которые ютятся в подвалах, в землянках, в щелях. Но Тувим видел красоту и в сожженной, истерзанной Варшаве: на то он был поляком, и на то он был поэтом». Агорафоб Тувим не увидел прежних улиц и площадей. Руины предполагали новое строительство, о котором поэт хотел думать, как о полной перестройке не только всех прежних пространств, но и - как о переустройстве социальных отношений…
Близкий друг поэта литератор Ю. Виттлин говорил: «Тувим — доказательство существования Бога, ибо невозможно, чтобы такой глупый человек был таким великим поэтом». (Оставим без ремарки «доброжелательную» реплику «друга»). Но все же, скорее всего, Виттлин имел в виду политическую наивность Тувима, восхищавшегося коммунизмом, советской Россией, социалистическим строительством и пр. В СССР еще не наступило время «борьбы с космополитами» и «дела врачей». «Величие замысла» коммунистической идеологии пока могло выглядеть интегрирующим фактором – особенно для людей, искренне желавших поверить в идею. Воплощение многих концепций реализуется недостойными их методами. Но Тувиму ближе была не максима С. Джонсона о том, что «Благими намерениями вымощена дорога в ад», а мысль Иоанна Златоуста: «Господь не токмо дела приемлет, но и намерения целует». (Кажется, что христианство ему было ближе: не случайно же он говорил о «крещении в Иордане еврейской крови»). Здесь он тоже оказывался чужим среди своих - большинство понимало: «когда лес рубят – щепки летят».
Агорафобия Тувима усиливалась. Симптоматика обострялась, даже если он просто смотрел в окно. Поэт регулярно получал угрозы антисемитского содержания. Обратил ли он внимание на то, что незаметно для себя оказался в гетто? Лодзинские Балуты навсегда поселились внутри него. Когда Тувим выходил на улицу в сопровождении жены (иначе уже не получалось) и переходил дорогу под взглядами польских антисемитов, задыхаясь от тревоги, с заполошно бьющимся сердцем, - его облику не доставало только белой нарукавной повязки и желтой звезды на груди.
В конце 1953 г. поэт и его жена решили провести Рождество на курорте в Закопане. Вскоре в квартире раздался телефонный звонок: «Не приезжай в Закопане, а то можешь не уехать живым».
Они, все же, поехали. 27 декабря 1953 г. у Тувима случился инфаркт. Он всегда был мистически настроенным человеком – напутственное пожелание неведомого антисемита сыграло свою роль. Еврей-поляк умер, успев предсказать именно такую кончину: «Призрак смерти леденящей – о, не разящей, а глумливой».
Игорь ЯКУШЕВ,
Доцент Северного государственного медицинского университета
Архангельск
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Издательский отдел: +7 (495) 608-85-44 Реклама: +7 (495) 608-85-44,
E-mail: mg-podpiska@mail.ru Е-mail rekmedic@mgzt.ru
Отдел информации Справки: 8 (495) 608-86-95
E-mail: inform@mgzt.ru E-mail: mggazeta@mgzt.ru