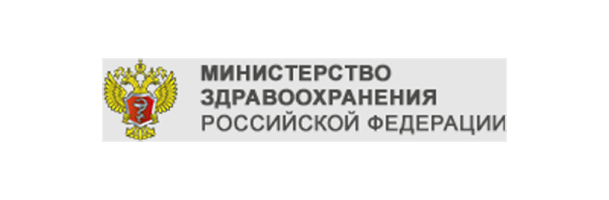06 марта 2026
Вы здесь
Красноречивое молчание Чехова
Антона Павловича началась в возрасте 17 лет, когда после простуды он переболел воспалением брюшины, очевидно туберкулезного характера. В 1884 г. у него впервые возникло кровохарканье, но было не до него, влекла работа. Несмотря на кажущиеся силы, болезнь давала о себе знать периодическим кашлем, одышкой, немотивированной слабостью. В таком состоянии Чехов отправился на Сахалин. Тяготы пути, безусловно, ускорили развитие у него туберкулезного процесса.
«Всё было бы хорошо, - вспоминала Мария Павловна, - если бы не здоровье Антона Павловича, которое становилось с каждым годом всё хуже и хуже... болезнь стала распространяться и задела кишечник. Брату не всё можно было есть, и я по совету врачей составляла ему специальное меню, расписанное по дням... Каждый из нас, и наша мать, и Ольга Леонардовна, старались делать всё, чтобы поддержать здоровье Антона Павловича».
Из дневника Чехова за 1895 г. «С 25 марта по 10 апреля лежал в клинике Остроумова. Кровохарканье. В обеих верхушках хрипы, в правом притупление. 28 марта приходил ко мне Толстой Л.Н.; говорили о бессмертии...»
Для лечения Антон Павлович неоднократно выезжал за границу, лечился кумысом в Башкирии, сменил московский климат крымским.
«А.П.Чехов в последние шесть лет - таким я знала его: Чехов слабеющий физически и крепнущий духовно ... Жизнь внутренняя за эти шесть лет прошла до чрезвычайности полно, насыщенно, интересно и сложно, так что неустроенность и неудобства теряли свою остроту...», - из воспоминаний Ольги Леонардовны.
Критическим для здоровья Антона Павловича стал 1904 г. Состояние здоровья ухудшалось: участились кровохарканья, изнуряющий кашель, одышка, боли в боках, аппетита не было. Несмотря на болезнь, неугомонный Чехов продолжал жить полноценной жизнью: писал, принимал друзей, строил планы на будущее. В апреле он показал писателю Н.Гарину-Михайловскому свои записные книжки: «Листов еще на пятьсот еще неиспользованного материала. Лет на пять работы. Если напишу, семья останется обеспеченной». Огромных затрат энергии требовали поездки в Москву.
В мае, осмотрев пациента, доктор Таубе рекомендовал ему вместе с женой ехать лечиться на юг Германии в курортный городок Баденвейлер.
Незадолго до отъезда Чехова навестил писатель Н.Телешов и был поражен: «...то, что я увидел, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький, человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом - до того был худ, изнурен и неузнаваем Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться. А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит: «Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать...» Тихая, сознательная покорность отражалась в его глазах... Сомневаться в том, что мы видимся в последний раз, не приходилось. Было это так ясно...»
Прибыв на место, Чехов в письме сестре Марии сообщал: «Лечит меня здесь хороший врач, умный и знающий. Это д-р Швёрер...»
Начало лета 1904 г. в Баденвей-лере оказалось некомфортным настолько, что пришлось Антону Павловичу письменно пожаловаться сестре: «Милая Маша, здесь жара наступила жестокая, застала меня врасплох, так как у меня с собой все зимние костюмы, я задыхаюсь и мечтаю о том, чтобы выехать отсюда... По железной дороге, признаться, я побаиваюсь ехать. В вагоне теперь задохнешься, особенно при моей одышке, которая усиливается от малейшего пустяка... А от одышки единственное лекарство - это не двигаться...» Тем не менее больной надеялся восстановить здоровье и побывать в Италии. О последних минутах жизни мужа Ольга Леонардовна вспоминала: «Антон Павлович тихо, покойно отошел в другой мир. В начале ночи он проснулся, и первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Я вспомнила, что в этом же отеле жили знакомые русские студенты - два брата, и вот одного я попросила сбегать за доктором, сама пошла колоть лед, чтобы положить на сердце умирающему. Я слышу, как сейчас, среди давящей тишины июльской душной ночи звук удаляющихся шагов по скрипучему песку... Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки: «Ich sterbe (Я умираю)». Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: «давно я не пил шампанского...», покойно выпил всё до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда...» Это произошло в ночь с 1 на 2 (14-15) июля 1904 г. Гроб с телом покойного привезли в Петербург в вагоне для устриц. 9 июля состоялись похороны в Москве. Куприн в очерке о Чехове писал: «Есть изречение: смерть каждого человека на него похожа. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о последних годах жизни Чехова, о последних его днях, даже о последних минутах. Даже в самые его похороны судьба внесла, по какой-то роковой последовательности, много чисто чеховских черт. Боролся он с неумолимой болезнью долго, страшно долго, но переносил ее мужественно, просто и терпеливо, без раздражения, без жалоб, почти без слов. За последнее время лишь мимоходом, небрежно упоминает он в письмах о своем здоровье. «Здоровье мое поправилось, хотя всё еще хожу с компрессом...», «Только что перенес плеврит, но теперь мне лучше...», «Здоровье мое неважно... пишу понемногу...» Не любил он говорить о своей болезни и сердился, когда его расспрашивали. Только, бывало, и узнаешь что-нибудь от Арсения. «Сегодня утром очень плохо было - кровь шла», - скажет он шепотом, покачивая головой. Или Евгения Яковлевна сообщит по секрету с тоской в голосе: «А сегодня Антоша опять всю ночь ворочался и кашлял. Мне через стенку всё слышно». Знал ли он размеры и значение своей болезни? Я думаю, знал, но бестрепетно, как врач и мудрец, глядел в глаза надвигавшейся смерти. Были разные мелкие обстоятельства, указывавшие на это. Так, например, одной даме, жаловавшейся ему на бессонницу и нервное расстройство, он сказал спокойно, с едва лишь уловимым оттенком покорной грусти: «Видите ли: пока у человека хороши легкие - всё хорошо». Умер он просто, трогательно и сознательно. Говорят, последние его слова были: «Ich sterbe!»
«Всё было бы хорошо, - вспоминала Мария Павловна, - если бы не здоровье Антона Павловича, которое становилось с каждым годом всё хуже и хуже... болезнь стала распространяться и задела кишечник. Брату не всё можно было есть, и я по совету врачей составляла ему специальное меню, расписанное по дням... Каждый из нас, и наша мать, и Ольга Леонардовна, старались делать всё, чтобы поддержать здоровье Антона Павловича».
Из дневника Чехова за 1895 г. «С 25 марта по 10 апреля лежал в клинике Остроумова. Кровохарканье. В обеих верхушках хрипы, в правом притупление. 28 марта приходил ко мне Толстой Л.Н.; говорили о бессмертии...»
Для лечения Антон Павлович неоднократно выезжал за границу, лечился кумысом в Башкирии, сменил московский климат крымским.
«А.П.Чехов в последние шесть лет - таким я знала его: Чехов слабеющий физически и крепнущий духовно ... Жизнь внутренняя за эти шесть лет прошла до чрезвычайности полно, насыщенно, интересно и сложно, так что неустроенность и неудобства теряли свою остроту...», - из воспоминаний Ольги Леонардовны.
Критическим для здоровья Антона Павловича стал 1904 г. Состояние здоровья ухудшалось: участились кровохарканья, изнуряющий кашель, одышка, боли в боках, аппетита не было. Несмотря на болезнь, неугомонный Чехов продолжал жить полноценной жизнью: писал, принимал друзей, строил планы на будущее. В апреле он показал писателю Н.Гарину-Михайловскому свои записные книжки: «Листов еще на пятьсот еще неиспользованного материала. Лет на пять работы. Если напишу, семья останется обеспеченной». Огромных затрат энергии требовали поездки в Москву.
В мае, осмотрев пациента, доктор Таубе рекомендовал ему вместе с женой ехать лечиться на юг Германии в курортный городок Баденвейлер.
Незадолго до отъезда Чехова навестил писатель Н.Телешов и был поражен: «...то, что я увидел, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький, человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом - до того был худ, изнурен и неузнаваем Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться. А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит: «Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать...» Тихая, сознательная покорность отражалась в его глазах... Сомневаться в том, что мы видимся в последний раз, не приходилось. Было это так ясно...»
Прибыв на место, Чехов в письме сестре Марии сообщал: «Лечит меня здесь хороший врач, умный и знающий. Это д-р Швёрер...»
Начало лета 1904 г. в Баденвей-лере оказалось некомфортным настолько, что пришлось Антону Павловичу письменно пожаловаться сестре: «Милая Маша, здесь жара наступила жестокая, застала меня врасплох, так как у меня с собой все зимние костюмы, я задыхаюсь и мечтаю о том, чтобы выехать отсюда... По железной дороге, признаться, я побаиваюсь ехать. В вагоне теперь задохнешься, особенно при моей одышке, которая усиливается от малейшего пустяка... А от одышки единственное лекарство - это не двигаться...» Тем не менее больной надеялся восстановить здоровье и побывать в Италии. О последних минутах жизни мужа Ольга Леонардовна вспоминала: «Антон Павлович тихо, покойно отошел в другой мир. В начале ночи он проснулся, и первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Я вспомнила, что в этом же отеле жили знакомые русские студенты - два брата, и вот одного я попросила сбегать за доктором, сама пошла колоть лед, чтобы положить на сердце умирающему. Я слышу, как сейчас, среди давящей тишины июльской душной ночи звук удаляющихся шагов по скрипучему песку... Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки: «Ich sterbe (Я умираю)». Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: «давно я не пил шампанского...», покойно выпил всё до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда...» Это произошло в ночь с 1 на 2 (14-15) июля 1904 г. Гроб с телом покойного привезли в Петербург в вагоне для устриц. 9 июля состоялись похороны в Москве. Куприн в очерке о Чехове писал: «Есть изречение: смерть каждого человека на него похожа. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о последних годах жизни Чехова, о последних его днях, даже о последних минутах. Даже в самые его похороны судьба внесла, по какой-то роковой последовательности, много чисто чеховских черт. Боролся он с неумолимой болезнью долго, страшно долго, но переносил ее мужественно, просто и терпеливо, без раздражения, без жалоб, почти без слов. За последнее время лишь мимоходом, небрежно упоминает он в письмах о своем здоровье. «Здоровье мое поправилось, хотя всё еще хожу с компрессом...», «Только что перенес плеврит, но теперь мне лучше...», «Здоровье мое неважно... пишу понемногу...» Не любил он говорить о своей болезни и сердился, когда его расспрашивали. Только, бывало, и узнаешь что-нибудь от Арсения. «Сегодня утром очень плохо было - кровь шла», - скажет он шепотом, покачивая головой. Или Евгения Яковлевна сообщит по секрету с тоской в голосе: «А сегодня Антоша опять всю ночь ворочался и кашлял. Мне через стенку всё слышно». Знал ли он размеры и значение своей болезни? Я думаю, знал, но бестрепетно, как врач и мудрец, глядел в глаза надвигавшейся смерти. Были разные мелкие обстоятельства, указывавшие на это. Так, например, одной даме, жаловавшейся ему на бессонницу и нервное расстройство, он сказал спокойно, с едва лишь уловимым оттенком покорной грусти: «Видите ли: пока у человека хороши легкие - всё хорошо». Умер он просто, трогательно и сознательно. Говорят, последние его слова были: «Ich sterbe!»
И последние его дни были омрачены глубокой скорбью за Россию, были взволнованы ужасом кровопролитной, чудовищной японской войны...
Точно сон, припоминаются его похороны. Холодный, серенький Петербург, путаница с телеграммами, маленькая кучка народа на вокзале, «вагон для устриц», станционное начальство, никогда не слыхавшее о Чехове и видевшее в его теле только железнодорожный груз... Потом, как контраст, Москва, стихийное горе, тысячи точно осиротевших людей, заплаканные лица. И наконец, могила на Новодевичьем кладбище, вся заваленная цветами, рядом со скромной могилой «вдовы казака Ольги Кукаретниковой».
Вспоминается мне панихида на кладбище на другой день после его похорон. Был тихий июльский вечер, и старые липы над могилами, золотые от солнца, стояли не шевелясь. Тихой, покорной грустью, глубокими вздохами звучало пение нежных женских голосов. И было тогда у многих в душе какое-то растерянное, тяжелое недоумение. Расходились с кладбища медленно, в молчании. Я подошел к матери Чехова и без слов поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом: «Вот горе-то у нас какое... Нет Антоши...» О, эта потрясающая глубина простых, обыкновенных, истинно чеховских слов! Вся громадная бездна утраты, вся невозвратимость совершившегося события открылась за ними. Нет! Утешения здесь были бы бессильны. Разве может истощиться, успокоиться горе тех людей, души которых так близко прикасались к великой душе избранника? Но пусть облегчит их неутолимую тоску сознание, что их горе - и наше общее горе. Пусть смягчится оно мыслью о незабвенности, о бессмертии этого прекрасного, чистого имени. В самом деле: пройдут годы и столетия, и время сотрет даже самую память о тысячах тысяч живущих ныне людей. Но далекие грядущие потомки, о счастии которых с такой очаровательной грустью мечтал Чехов, произнесут его имя с признательностью и с тихой печалью о его судьбе».
Точно сон, припоминаются его похороны. Холодный, серенький Петербург, путаница с телеграммами, маленькая кучка народа на вокзале, «вагон для устриц», станционное начальство, никогда не слыхавшее о Чехове и видевшее в его теле только железнодорожный груз... Потом, как контраст, Москва, стихийное горе, тысячи точно осиротевших людей, заплаканные лица. И наконец, могила на Новодевичьем кладбище, вся заваленная цветами, рядом со скромной могилой «вдовы казака Ольги Кукаретниковой».
Вспоминается мне панихида на кладбище на другой день после его похорон. Был тихий июльский вечер, и старые липы над могилами, золотые от солнца, стояли не шевелясь. Тихой, покорной грустью, глубокими вздохами звучало пение нежных женских голосов. И было тогда у многих в душе какое-то растерянное, тяжелое недоумение. Расходились с кладбища медленно, в молчании. Я подошел к матери Чехова и без слов поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом: «Вот горе-то у нас какое... Нет Антоши...» О, эта потрясающая глубина простых, обыкновенных, истинно чеховских слов! Вся громадная бездна утраты, вся невозвратимость совершившегося события открылась за ними. Нет! Утешения здесь были бы бессильны. Разве может истощиться, успокоиться горе тех людей, души которых так близко прикасались к великой душе избранника? Но пусть облегчит их неутолимую тоску сознание, что их горе - и наше общее горе. Пусть смягчится оно мыслью о незабвенности, о бессмертии этого прекрасного, чистого имени. В самом деле: пройдут годы и столетия, и время сотрет даже самую память о тысячах тысяч живущих ныне людей. Но далекие грядущие потомки, о счастии которых с такой очаровательной грустью мечтал Чехов, произнесут его имя с признательностью и с тихой печалью о его судьбе».
Московская газета «Русская мысль» отмечала: «Венки были от целых городов, несколько сотен венков с траурными лентами. Многотысячная толпа жалобными голосами пела «Святый Боже». Чехова несли на руках через всю Москву. Все балконы были заняты, и усеяны людьми окна домов. Процессия останавливалась у тех мест, которые были освящены именем Чехова, и там служили литии. Служили их у Тургеневской читальни, у осиротевшего Художественного театра, у памятника Пирогову... У входа в Новодевичий монастырь стояли сотни людей. Похоже было, что это храмовый праздник. Своеобразным звоном монастырский колокол возвестил прибытие тела... Долго ждали речей, даже когда гроб был уже засыпан. Но передали, что покойным было выражено желание, чтоб над его могилой не было речей. Двое-трое ораторов из необозримо огромной толпы сказали заурядные слова, досадно нарушившие красноречивое молчание, которое было так уместно над свежей могилой грустного певца сумеречной эпохи».
Толстой на смерть Чехов сказал: «...смерть Чехова - это большая потеря для нас, тем более что кроме несравненного художника мы лишились прелестного, искреннего и честного человека... Это был обаятельный человек, скромный, милый...»
В 1907-1908 гг. на могиле А.П.Чехова был поставлен скромный памятник в стиле модерн по проекту художника Л.М.Браиловского.
Валерий ПЕРЕДЕРИН, врач.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Издательский отдел: +7 (495) 608-85-44 Реклама: +7 (495) 608-85-44,
E-mail: mg-podpiska@mail.ru Е-mail rekmedic@mgzt.ru
Отдел информации Справки: 8 (495) 608-86-95
E-mail: inform@mgzt.ru E-mail: mggazeta@mgzt.ru