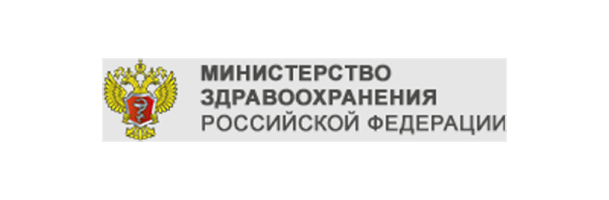05 марта 2026
Вы здесь
Скрижали, лозунги и заповеди
Борис Слуцкий как-то сказал: «После смерти Таньки я написал 200 стихотворений и сошел с ума». Смерть жены, умершей от лимфолейкоза, оказалась для поэта последним грузом, надломившим его психику, ввергнув ее в безысходную многолетнюю депрессию.
Чувство вины перед Пастернаком
Многие сегодня говорят о чувстве вины, испытанном Слуцким в связи с его выступлением по поводу публикации в Италии романа Б.Пастернака «Доктор Живаго». Это и верно и неверно. Аккуратный и неизменно подтянутый Слуцкий, в котором за версту легко можно было узнать отставного офицера, в течение многих лет выстраивал свою жизнь в жесткой структуре иерархии и порядка: можно делать только то, что положено и не возбраняется Уставом партии, Воинским уставом и прочими легитимными указаниями и инструкциями – эти партийные догмы очень долго были ориентиром для поэта. Слуцкий верил в эти каноны и искренне считал их правильными и целесообразными, потому что цель, декларированная ими, выглядела справедливой.
«Чтобы в заграждения колючке
командир саперный не забыл
краткий курс – учебник революции
– вовремя чтоб проработан был».
Значит, советский писатель не может и не должен печататься за рубежом без соответствующих санкций и виз. Можно делать лишь то, что можно. Нельзя делать того, чего нельзя. И если поступать как положено, в конце концов мир станет лучше и правдивее. Ради этого следует наступать и на горло собственной песне, чтобы никакой эстетический соблазн не изменил этике общего направления, не отвлек от движения к обществу социальной справедливости, каковым Слуцкий считал, разумеется, социализм.
Чувство вины перед Пастернаком
Многие сегодня говорят о чувстве вины, испытанном Слуцким в связи с его выступлением по поводу публикации в Италии романа Б.Пастернака «Доктор Живаго». Это и верно и неверно. Аккуратный и неизменно подтянутый Слуцкий, в котором за версту легко можно было узнать отставного офицера, в течение многих лет выстраивал свою жизнь в жесткой структуре иерархии и порядка: можно делать только то, что положено и не возбраняется Уставом партии, Воинским уставом и прочими легитимными указаниями и инструкциями – эти партийные догмы очень долго были ориентиром для поэта. Слуцкий верил в эти каноны и искренне считал их правильными и целесообразными, потому что цель, декларированная ими, выглядела справедливой.
«Чтобы в заграждения колючке
командир саперный не забыл
краткий курс – учебник революции
– вовремя чтоб проработан был».
Значит, советский писатель не может и не должен печататься за рубежом без соответствующих санкций и виз. Можно делать лишь то, что можно. Нельзя делать того, чего нельзя. И если поступать как положено, в конце концов мир станет лучше и правдивее. Ради этого следует наступать и на горло собственной песне, чтобы никакой эстетический соблазн не изменил этике общего направления, не отвлек от движения к обществу социальной справедливости, каковым Слуцкий считал, разумеется, социализм.
Факт издания книги Пастернака за границей явственно обозначал для Слуцкого выпадение автора крамольного романа из жесткого, но целесообразного алгоритма, отклонение от которого было для офицера, прошедшего войну, недопустимым волюнтаризмом. Система, давшая слабину, рано или поздно начнет давать сбои, поэтому все отклонения следует пресекать. Слуцкий, в отличие от большинства литераторов, резвившихся на памятном собрании, осудившем поступок Пастернака, был совершенно искренен, как честен он был в своих стихах о Ленине и социализме. Он действительно считал возможным существование человека общества в этом обществе только при неукоснительном соблюдении всех его законов. Исключения не допускались. Это было символом веры атеиста-политрука. И это было его надеждой.
И в то же время, поэт Слуцкий не мог не испытывать чувства вины. Система-то системой, но Пастернак умер от рака вскоре после этих событий, и ни для кого уже тогда не было тайной то, что онкопатология легче и быстрее развивается в ослабленном, в том числе и морально, организме. Не мог Слуцкий не чувствовать и того, что он на этом антипастерна-ковском собрании оказался в ряду самых одиозных фигур. Вспомнил Слуцкий, наверное, и о русской поговорке «Семеро одного не бьют». Но Слуцкий был офицером и коммунистом. И он не мог отказаться от возложенного на него поручения. И всё же, всё же…
«Мне хотелось спать
и умереть. Или взять резинку и стереть всё,
что написалось и напелось».
«Ставлю на коммунизм…»
Борис Абрамович Слуцкий, безусловно, мог считать себя удачливым и успешным – состоявшимся – человеком, но, покинув ту среду, в которой вырос, и оглядываясь на нее, он не мог не видеть того, что большинство его сверстников и земляков осталось в прежнем состоянии (а чаще – погибло). Он же, выделившись из их среды, оставил их в той же «мизерабельности», да просто остался в живых, хотя прошел всю войну, был ранен, контужен, получил четыре ордена и инвалидность. Статистика военных действий заранее знает, сколько людей будет убито и ранено, сколько уцелеет, и в значительной степени дело случая, кто станет жертвой, а кто пойдет дальше. Слуцкий остался жив, войдя в ту когорту, которой досталось дожить, уцелеть. Ему выпал счастливый удел, но кто знает – не за счет ли кого-то другого? И здесь тоже есть мотив для формирования чувства вины – перед погибшими:
«Убили самых смелых,
самых лучших,
А тихие и слабые – спаслись».
Но Слуцкий еще писал искренние, исполненные веры, но уже и последней надежды и оттого замечательные стихи о Ленине, Гамарнике, Тухачевском. Вернее, не о них, а о тех идеалистических конструкциях, которые соответствовали в понимании Слуцкого этим именам и его идеалам: должен же человек во что-то верить! Ведь если бы не культ Сталина, то была альтернатива развития страны, и именно в том честном и справедливом направлении, о котором и думал политрук и поэт. Он считал казненных сталинских соратников честными ленинцами и коммунистами, экстраполируя на них собственные этические принципы. И он всё еще верил в эти схемы, которые казались после развенчания культа Сталина совсем уже последней линией обороны правды политрука Слуцкого. Потому что «если Бога нет, то какой же я капитан!?» Вместо «Бога» и «капитана» можно подставить «Ленина» и «политрука» – смысл не изменится. И оттого – до поры-до времени: «Ставлю на коммунизм…» Но тем не менее из его стихов постепенно пропадали социализм, коммунизм, Ленин, а возникали вечные вопросы, которые не могли иметь ответа в примитивной системе коммунистического мировоззрения. Все чаще Слуцкий формулировал вопрос, еще даже и не задавая его, но обозначая проблему:
«Если вся рота идет не в ногу,
а прапорщик Иванов – в ногу,
может быть, не права рота,
может быть, не прав прапорщик».
И поэт еще некоторое время уповал и надеялся на «ленинские нормы», восстановленные ХХ съездом, пока разочарование и печаль не окутали его стихи, что хорошо заметно, если перечитать их в хронологическом порядке.
И вот уже стали появляться немыслимые прежде для Слуцкого строки:
«Ставлю на коммунизм…»
Борис Абрамович Слуцкий, безусловно, мог считать себя удачливым и успешным – состоявшимся – человеком, но, покинув ту среду, в которой вырос, и оглядываясь на нее, он не мог не видеть того, что большинство его сверстников и земляков осталось в прежнем состоянии (а чаще – погибло). Он же, выделившись из их среды, оставил их в той же «мизерабельности», да просто остался в живых, хотя прошел всю войну, был ранен, контужен, получил четыре ордена и инвалидность. Статистика военных действий заранее знает, сколько людей будет убито и ранено, сколько уцелеет, и в значительной степени дело случая, кто станет жертвой, а кто пойдет дальше. Слуцкий остался жив, войдя в ту когорту, которой досталось дожить, уцелеть. Ему выпал счастливый удел, но кто знает – не за счет ли кого-то другого? И здесь тоже есть мотив для формирования чувства вины – перед погибшими:
«Убили самых смелых,
самых лучших,
А тихие и слабые – спаслись».
Но Слуцкий еще писал искренние, исполненные веры, но уже и последней надежды и оттого замечательные стихи о Ленине, Гамарнике, Тухачевском. Вернее, не о них, а о тех идеалистических конструкциях, которые соответствовали в понимании Слуцкого этим именам и его идеалам: должен же человек во что-то верить! Ведь если бы не культ Сталина, то была альтернатива развития страны, и именно в том честном и справедливом направлении, о котором и думал политрук и поэт. Он считал казненных сталинских соратников честными ленинцами и коммунистами, экстраполируя на них собственные этические принципы. И он всё еще верил в эти схемы, которые казались после развенчания культа Сталина совсем уже последней линией обороны правды политрука Слуцкого. Потому что «если Бога нет, то какой же я капитан!?» Вместо «Бога» и «капитана» можно подставить «Ленина» и «политрука» – смысл не изменится. И оттого – до поры-до времени: «Ставлю на коммунизм…» Но тем не менее из его стихов постепенно пропадали социализм, коммунизм, Ленин, а возникали вечные вопросы, которые не могли иметь ответа в примитивной системе коммунистического мировоззрения. Все чаще Слуцкий формулировал вопрос, еще даже и не задавая его, но обозначая проблему:
«Если вся рота идет не в ногу,
а прапорщик Иванов – в ногу,
может быть, не права рота,
может быть, не прав прапорщик».
И поэт еще некоторое время уповал и надеялся на «ленинские нормы», восстановленные ХХ съездом, пока разочарование и печаль не окутали его стихи, что хорошо заметно, если перечитать их в хронологическом порядке.
И вот уже стали появляться немыслимые прежде для Слуцкого строки:
«Игра не согласна,
чтоб я соблюдал ее правила.
Она меня властно
и вразумляла, и правила».
Бог или социализм?
Изменился не он – изменились обстоятельства. Эпоха закончилась, а лозунги остались прежними. И обстоятельства эти поэту не нравились. Идеи девальвировались, и если прежде можно было честно заблуждаться, то теперь заблуждаться было всё труднее.
Трудно было закрывать глаза на стагнацию социума и профанацию идеи. Но ведь для того, чтобы этот социум, этот социализм был воздвигнут, Слуцкий сам приложил немало сил. Прекраснодушие честного человека, писавшего талантливые лозунги, оказалось романтизмом, ненужным обществу, погруженному в неправду. Ту самую неправду, которая спряталась в минуты опасности, создав иллюзию того, что исчезла навсегда, а потом – когда умолкли залпы вражеских орудий – вылезла наружу, заняв еще более удобное, чем прежде, место. В мире, где правду говорит только поэт, рано или поздно наступают стагнация. Слуцкий не изменил себе, но сама игра пошла по иному сценарию. И она уже не привлекала поэта, мало-помалу устранившегося из пресловутой общественной жизни.
Политрук Слуцкий не был двурушником, он убеждал лишь в том, во что верил сам; призывал к тому, чем сам занимался всю жизнь. И как правильный, хороший и честный человек, обманывался на счет большинства, которое не было похожим на Слуцкого.
«Комиссары в пыльных шлемах» оказались садистами и подлецами. Романтика намерений осталась только в поэзии. И теперь в стихах Слуцкого всё чаще возникало слово «Бог». Поэт и прежде употреблял эту лексему, но именно как фигуру речи, порой иронически, словно слегка стесняясь такой метафоры. Теперь эта тема и это слово заняли едва ли не то же самое место в поэзии Слуцкого, что и социализм. В этом нет ничего странного или приспособленческого. Просто и социализм и Бог в разные моменты времени воплощали для поэта одно и то же: высшую справедливость, правду, знание, воздаяние, смысл и цель.
Изменился не он – изменились обстоятельства. Эпоха закончилась, а лозунги остались прежними. И обстоятельства эти поэту не нравились. Идеи девальвировались, и если прежде можно было честно заблуждаться, то теперь заблуждаться было всё труднее.
Трудно было закрывать глаза на стагнацию социума и профанацию идеи. Но ведь для того, чтобы этот социум, этот социализм был воздвигнут, Слуцкий сам приложил немало сил. Прекраснодушие честного человека, писавшего талантливые лозунги, оказалось романтизмом, ненужным обществу, погруженному в неправду. Ту самую неправду, которая спряталась в минуты опасности, создав иллюзию того, что исчезла навсегда, а потом – когда умолкли залпы вражеских орудий – вылезла наружу, заняв еще более удобное, чем прежде, место. В мире, где правду говорит только поэт, рано или поздно наступают стагнация. Слуцкий не изменил себе, но сама игра пошла по иному сценарию. И она уже не привлекала поэта, мало-помалу устранившегося из пресловутой общественной жизни.
Политрук Слуцкий не был двурушником, он убеждал лишь в том, во что верил сам; призывал к тому, чем сам занимался всю жизнь. И как правильный, хороший и честный человек, обманывался на счет большинства, которое не было похожим на Слуцкого.
«Комиссары в пыльных шлемах» оказались садистами и подлецами. Романтика намерений осталась только в поэзии. И теперь в стихах Слуцкого всё чаще возникало слово «Бог». Поэт и прежде употреблял эту лексему, но именно как фигуру речи, порой иронически, словно слегка стесняясь такой метафоры. Теперь эта тема и это слово заняли едва ли не то же самое место в поэзии Слуцкого, что и социализм. В этом нет ничего странного или приспособленческого. Просто и социализм и Бог в разные моменты времени воплощали для поэта одно и то же: высшую справедливость, правду, знание, воздаяние, смысл и цель.
Социализм не вызывал никаких вопросов, так как претендовал на знание любых ответов. С ним всё было ясно и прямолинейно: эта система привычно обходилась без этики. Вернее, эта этика была установленной догмой («нормой выработки»), в силу чего и не требовала сомнений, терзаний и метаний.
Бог вопросы вызывал, и здесь не было черно-белой определенности, поэтому и сомнений было много, а ответов – мало. Человеку предоставлялась свобода выбора, неожиданно – с отвычки – оказавшаяся трудной и не подходившая к готовым схемам.
Как за несколько десятилетий до него Н.Н.Асеев, Слуцкий увидел, что его время «крашено рыжим цветом, а не красным». Но в отличие от Асеева, Слуцкий понял (хотя не признался в этом даже самому себе), что это время никогда и не было «красным», а цветную иллюзию для эпохи создавали кумачовые лозунги. Но вот эти лозунги выцвели, и суть социализма проступила, обнажив дешевый матерьялец, износившийся до прозрачности. И поэт честно взял на себя груз вины человека, бывшего одним из добровольных идеологов той системы, которая оказалась недостаточно сильной, чтобы быть последовательной, и недостаточно гибкой, чтобы вместить мультивариантность личностной и социальной стохастичности. Чувство вины поэта носило и социальный, и личный характер. Дело не только в выступлении по поводу пастернаковского романа.
Был виноват кругом...
В семье Слуцкого, как и в любой другой, были (не могло не быть) конфликты и трения, от которых страдали и были виноваты обе стороны – по закону больших чисел – приблизительно в равной степени. Но при этих формально равных условиях жена поэта умерла прежде него. И получается, что эти размолвки и конфликты более губительными оказались лишь для одного из членов семьи, возложив косвенную вину за их последствия на второго.
«А я ничего не видел кругом –
слеза горела, не перегорала,
поскольку был виноват кругом,
и я был жив, а она умирала».
Классический психоанализ З.Фрейда считает, что человек, находящийся в депрессии, интроецирует утраченный им объект любви, помещая его «внутрь себя», отождествляясь с ним. В дальнейшем именно из-за этого отождествления пациент начинает обвинять себя, впадая в глубокую депрессию, так как в его собственной психике нашел виртуальный приют навсегда ушедший человек, ставший причиной его печального одиночества. Таким образом, меланхолик, по сути дела, предъявляет претензии за то, что остался один, не себе, а покинувшему его человеку, который отныне навеки и неразрывно соотнесен с личностью и психикой пациента. Умерший остается с нами, внутри нас, и мы продолжаем с ним диалог, порой кажущийся со стороны монологом.
Так и случилось со Слуцким: он прервал свои отношения с миром. Он не совершил суицида, он просто прекратил жить. Слуцкий лег на кровать, отвернулся к стене и замолчал на 6 лет, оставшихся ему до физической смерти. Нет, он не молчал абсолютно. Он отвечал на некоторые вопросы, но можно ли было считать это речью, диалогом, жизнью (в том числе жизнью поэта)? Едва ли…
Своей твердостью и несгибаемой бескомпромиссностью Слуцкий чем-то был похож на восточноевропейского хасида, неукоснительно соблюдающего все предписания своей веры и не допускавшего отклонений от канонов Торы, которой для него, еврея-атеиста, на долгий период времени стали Устав партии и Конституция СССР.
Но не все возможные жизненные ситуации оказались прописанными в этих книгах. Более того, в некоторых случаях предписания партийного Пятикнижия оказались для поэта неприемлемыми. Его моральные качества были ближе к словам Нового Завета: «Не человек для субботы, но суббота для человека». Выступив против Пастернака, Слуцкий поступил подобно человеку Ветхого Завета. Однако его человеческие качества внутренне протестовали против этого: нельзя топтать человека, если он ошибся, ибо, как сказано опять-таки в Новом Завете: «Не до семи, но до седмижды семидесяти раз» следует прощать брата твоего. Более того, об ошибке человека может судить только Бог. Но, в любом случае, жизнь и честь человека дороже, чем линия партии, хотя для Слуцкого поставить что бы то ни было выше партийных документов было очень трудно: менялась вся концепция его жизни, рушился символ его веры.
Жизнь поэта оказалась персональной эволюцией от Ветхого Завета неукоснительного исполнения всеобщих догматов – к Новому Завету ответственности индивидуального выбора, иногда совершающегося вопреки…
Но последних шагов он, кажется, так и не сделал.
Честная ответственность Слуцкого, не прощавшего себя за мелкие и крупные прегрешения против собственной совести, сформировала чувство вины и глубокую депрессию поэта, заставившего себя замолчать...
Игорь ЯКУШЕВ,
доцент Северного
государственного
медицинского университета.
Архангельск.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Издательский отдел: +7 (495) 608-85-44 Реклама: +7 (495) 608-85-44,
E-mail: mg-podpiska@mail.ru Е-mail rekmedic@mgzt.ru
Отдел информации Справки: 8 (495) 608-86-95
E-mail: inform@mgzt.ru E-mail: mggazeta@mgzt.ru