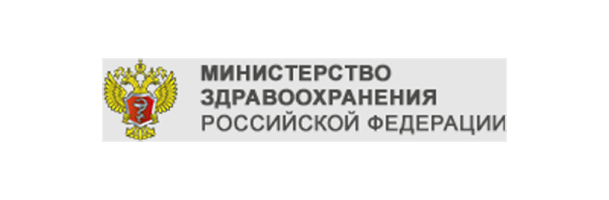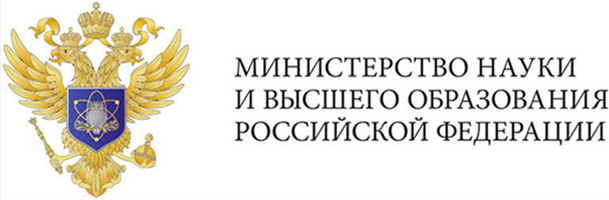09 декабря 2025
Вы здесь
Беслан… и после

В память о Владимире Клевно, заведующем кафедрой судебной медицины МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, враче высшей квалификационной категории по судебномедицинской экспертизе, патологической анатомии и организации здравоохранения, главном редакторе журнала «Судебная медицина», докторе медицинских наук, профессоре «МГ» публикует отрывок из книги Альберта Хисамова «Владимир Клевно. Судьба моя – судебка».
В сентябре 2004 г. я руководил бригадой экспертов Минздравсоцразвития России по производству судебномедицинских экспертиз погибших и пострадавших в результате террористического акта в Беслане. Первого сентября там террористы захватили здание школы № 1…
Из Москвы я вылетел в Беслан на транспортном самолёте ИЛ 76. Во время полёта познакомился с Михаилом Зурабовым (он тогда был министром здравоохранения России. – прим. авт.) и его первым замом Владимиром Стародубовым. В Беслане нас привезли в штаб, который возглавлял Сергей Шойгу (в то время министр МЧС. – прим. авт.). Там было много военных, сотрудники ФСБ, МВД, Генпрокуратуры, МЧС. Террористы всё еще удерживали заложников в школе.
К операции, наверное, готовились, но началась она спонтанно – не могу сказать, что я чтонибудь слышал о подготовке к штурму. Штурм был предпринят после первых взрывов, когда заложники стали выбегать из школы. Конечно, ситуация там была крайне тяжёлая и невероятно напряжённая.
После штурма работники следственной группы и судмедэксперты зашли в школу. Что там говорить, ужас, истерика, хаос – из 331 человека погибших – 186 детей… Не все специалисты смогли быстро сориентироваться, и вначале их действия были раскоординированы – шокированные люди действовали словно наугад. Сотрудники МЧС занимались извлечением тел детей и взрослых изпод обломков, тушили продолжающийся пожар. Но первичный осмотр места происшествия проводился с существенными дефектами – сортировка и маркировка трупов была хаотичной, что в дальнейшем серьёзно осложнило задачу по организации и производству экспертных работ.
Когда я прибыл туда и оценил возможные последствия этих дефектов, мне стало понятно, что зерна хаоса уже посеяны и нам придётся прилагать усилия, чтобы постараться хотя бы максимально откорректировать ситуацию.
В моей группе были очень опытные спецы: начальники Бюро СМЭ – Гуцаев (Алания), Мечукаев (КабардиноБалкарская Республика), Копылов (Ставрополье), Варшавец (Краснодарский край), Джуха (Ростовская область), а также Волков, начальник 124й Центральной лаборатории медико-криминалистической идентификации Министерства обороны РФ (РостовнаДону) и Жаров из Департамента здравоохранения Москвы.
Однако даже группа опытных специалистов уже не могла повлиять на запущенные процессы, приведшие в итоге к искусственному увеличению количества неопознанных трупов. Дело в том, что и опознания погибших тоже проводились бессистемно. Почемуто их родственники, минуя республиканское бюро СМЭ, предоставляли фотографии и сведения об идентификационных признаках разыскиваемых ими лиц в республиканскую прокуратуру – то есть не туда, где проводилась экспертная работа, а в инстанцию, которая такими исследованиями не занимается. А при этом эксперты и следователи, непосредственно участвующие в процедуре опознания, могли ориентироваться только на скудные и часто противоречивые устные сведения родственников.
О систематизации и сравнительном анализе идентифицирующих признаков в таких условиях говорить не приходилось. Эта неразбериха тоже увеличила количество неопознанных трупов. Было довольно много и ошибочных опознаний родственниками, что влекло за собой либо возврат ошибочно опознанных тел в Бюро СМЭ, либо их эксгумацию. Дело осложнялось ещё и небывалой жарой…
В первую очередь мне предстояло скоординировать действия сотрудников правоохранительных органов и судебных медиков, определив алгоритм работы. Это помогло упорядочить ситуацию и позволило частично исправить ошибки, допущенные на предыдущих этапах.
Учитывая обстановку, и задачи, которые были поставлены Генпрокуратурой, нам надлежало провести экспертизы и живых лиц. Экспертам предстояло определить тяжесть вреда, причинённого их здоровью в результате террористического акта. Всего мы провели 1053 первичных экспертиз живых лиц, из них – 653 ребёнка. Сроки были сжаты по понятным причинам.
Чтобы ускорить ход работы, я, исходя из расчёта трудозатрат на одну экспертизу и числа рабочих мест, решил привлечь дополнительные силы – вызвал судмедэкспертов из других регионов. Министерство здравоохранения РСОАлания выделило нам транспорт и компьютерную технику для оформления документации. Эксперты занялись изъятием и изучением медицинской документации из ЛПУ, где пострадавшие проходили лечение. Мне удалось наладить процесс освидетельствования потерпевших в разных точках города – в Бюро СМЭ, ЛПУ, школах, санаториях и т.д.
Что касается тел погибших, то опознанные трупы были выданы родственникам для захоронения, а неопознанные помещены для хранения в вагонырефрижераторы. У всех неопознанных для выделения ДНК были взяты образцы разных тканей для последующей работы по проведению соответствующих молекулярногенетических экспертиз. Всего нам удалось идентифицировать 83 человека, из них 62 ребёнка.
По результатам этих экспертиз были многочисленные жалобы со стороны пострадавших и их родственников. Проблемы возникали изза путаницы, которую породила разноголосица в трактовках некоторых медицинских понятий. Как выяснилось, медицинские работники и самито не понимали разницы между тяжестью клинического состояния больного и степенью тяжести вреда, причинённого здоровью человека. И уж, конечно, люди без медицинского образования понятия не имели о правилах судебно-медицинского определения тяжести вреда здоровью. Поэтому мне пришлось заниматься и просветительскими вопросами тоже.
Чуть позднее было сделано 145 повторных комиссионных и комплексных судебно-медицинских и судебнопсихиатрических экспертиз с учётом последствий баротравмы и психоэмоционального состояния пострадавших. В 95 случаях была изменена оценка степени тяжести вреда здоровью. Наиболее частыми причинами её переквалификации были психические расстройства, связанные с перенесённой черепномозговой травмой, и исходы лечения огнестрельных и осколочных повреждений, полученных потерпевшими, а также баротравма и наличие посттравматической стрессовой реакции.
Более чем на 160 трупах были отмечены следы действия открытого пламени. В 116 случаях оказалось невозможным установить причину смерти изза выраженных посмертных термических – вплоть до полного обугливания – или механических повреждений при взрывах. Тринадцать трупов мужчин, расстрелянных и выброшенных из здания школы в первые дни захвата, находились в состоянии далеко зашедших гнилостных изменений. В этих условиях решение установления личности погибших было затруднено.
Помимо экспертной работы я организовал регулярное централизованное информирование Минздрава и всех причастных ведомств о количестве жертв, состоянии идентификационных работ и по другим существенным вопросам. Это позволило снять проблему несовпадения данных, получаемых в разное время и из разных источников. Из Минздрава ежедневно уточняли данные, представляя соответствующие отчёты в Аппарат Правительства.
Опыт работы в Беслане позволил сделать вывод, что в чрезвычайных ситуациях с многочисленными человеческими жертвами необходим один координатор всей экспертной работы. Он должен иметь все соответствующие полномочия. Должен быть и единый информационный центр, через который осуществляется связь со всеми структурами, которым необходимо обеспечить доступ к достоверным сведениям о погибших и пострадавших. Отсутствие единоначалия приводит к беспорядку и влечёт за собой ошибки в последовательности выполнения поставленных задач и нерациональному использованию драгоценного времени.
В Беслане мы все получили много горьких уроков!
После этих событий, в ноябре 2004 г. меня назначили исполняющим обязанности директора РЦСМЭ Минздрава России. Для меня это означало обязательное личное участие в проведении или руководстве производством наиболее сложных и ответственных судебномедицинских экспертиз, в том числе по умышленным убийствам, делам, связанным с привлечением к уголовной ответственности медицинских работников, и медикокриминалистическую идентификацию неопознанных тел погибших в случаях ЧС с многочисленными человеческими жертвами – к сожалению, последнее становилось всё более и более актуальным.
Во время бесланских событий я регулярно отчитывался перед В.И.Стародубовым по текущим вопросам экспертизы, прежде всего, идентификации личности погибших. Я знал, что Владимир Иванович институт окончил по специальности «лечебно-профилактическое дело», а после какое-то время работал хирургом, но не знал, что он прекрасно разбирается в тонкостях судебно-медицинской экспертизы. Признаюсь, это меня немало удивило. Позднее он поддерживал мои инициативы и старался по возможности помогать развитию нашего РЦСМЭ.
Hосле событий в Беслане меня не покидала идея полной централизации судебно-медицинской службы страны. Наш центр был учреждением федеральным, но все региональные бюро СМЭ подчинялись органам здравоохранения субъектов РФ, а не центру. Своими мыслями я делился с Владимиром Ивановичем. Возможно, он и видел в моей идее рациональное зерно, но скепсиса в его реакциях всё же было больше. Он, в отличие от меня, знал, что переструктурирование всей системы СМЭ получилось бы слишком ресурсозатратным и отсылал меня к Татьяне Алексеевне, говоря: «Иди к Голиковой (тогда она была заместителем министра финансов. – прим. авт.). Если она выделит тебе 10 млн, тогда и можно будет чтото решить».
Но я решил начать с Зурабова. Михаил Юрьевич, выслушав меня, поручил произвести расчёты потребностей региональных бюро.
И тогда, собрав данные за 2006-2008 гг., наконецто мы узнали, «сколько стоим» на самом деле… Это была очень полезная работа, в том числе и в плане ощущения масштаба всей структуры СМЭ.
Могу сказать, что и Стародубов, и Хальфин (заместитель министра здравоохранения РФ. – прим. авт.) считали, что переход на федеральный уровень может не столько укрепить руководство структурой, сколько породить перенос ответственности «с больной головы на здоровую». И, чтобы отрезвить меня, они предлагали пройти «тест» примерно такого плана: «Материальная база многих региональных бюро почти нулевая, оттуда идёт много жалоб. Сейчас за решение проблем отвечает регион. Но при федеральном управлении отвечать за морги на Сахалине и Камчатке тебе придётся. Ты готов?». Я-то был уверен, что самое лучшее – создать филиалы нашего центра в федеральных округах. Однако законодательных предпосылок не было и для развития филиальной сети РЦСМЭ, поэтому вопрос завис. По прошествии лет, я, обретя больший опыт, понял, что мои руководители были правы. Нельзя эту махину передавать под федеральное управление – масштабы страны диктуют необходимость организации грамотного управления на местах.
На фото: Спасённая жизнь. Беслан, 3 сентября 2004 г.

Издательский отдел: +7 (495) 608-85-44 Реклама: +7 (495) 608-85-44,
E-mail: mg-podpiska@mail.ru Е-mail rekmedic@mgzt.ru
Отдел информации Справки: 8 (495) 608-86-95
E-mail: inform@mgzt.ru E-mail: mggazeta@mgzt.ru